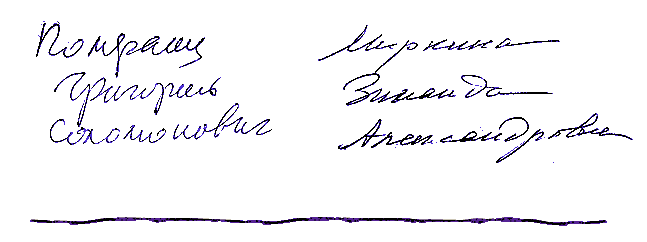
СТАДИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Семинар по проблемам образования, экологии и глобализации, 6 - 9 сентября 2002 г.
Игрунов: Я хотел бы сказать несколько слов. Я когда-то вам рассказывал о своем диссидентском прошлом и даже о библиотеке самиздата я говорил. Вот как-то в 68-м году мне в руки попалась сразу большая куча самиздата, я был ужасно счастлив и, конечно, кинулся это все читать. И среди того, что было в этой куче, был текст под названием «Нравственный облик исторической личности», принадлежавший тогда для меня совершенно незнакомому автору, Григорию Померанцу. Я должен сказать, что эта статья произвела во мне целую революцию. Революцию потому, что все, что мне попадалось до того в самиздате, было более или менее интересно, что-то вызывало живой отклик, как, например, «Открытое письмо Раскольникова Сталину», или, скажем, совершенно искренний текст Григоренко по поводу чехословацких событий. Но все они были для меня либо достаточно чужими, либо мне казались слишком простыми, например, книга Джиласа «Новый класс» или что-нибудь такое. Казалось вчерашним днем. Среди текстов, которые достаточно сильно повлияли на меня, были статьи и выступления Ларисы Богораз. Это очень сильные вещи, но вот статья «Нравственный облик исторической личности» произвела во мне совершеннейший переворот. Это не связано с тем, что, может быть, она открыла новые представления. Нет, напротив, я узнал то, что чувствовал сам, но как бы не мог сказать. Мне не хватало слов, не хватало культурных оснований для того, чтобы сформулировать те мысли, которые я узнал там как свои. Мне тогда было 20 лет, едва только исполнилось, а это писал мудрый, умный человек, который прожил серьезную жизнь, который сформулировал принципы, которые навсегда остались со мной на всю жизнь. Книга Григория Соломоновича Померанца «Неопубликованное», которую я получил год спустя, просто стала моей хрестоматией, стала самой любимой книгой самиздата за все время, что я читал.
Потом мне очень понравился Андрей Амальрик, который появился тоже в 69-м году – «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Андрей Амальрик был, на мой взгляд, самым интеллектуальным политологом во всей нашей диссиденции, да и сейчас, я думаю, он был бы великим человеком. Тем не менее, статья Григория Соломоновича Померанца о нравственном образе политического деятеля сыграла такую роль, что долгое время, когда я уже во время Перестройки и позже, печатался, почти везде делались подзаголовки «Нравственность и политика». На самом деле, это ключевая линия, которой я занимался. То, что мы делали в «ЯБЛОКЕ», тоже пронизано в значительной степени тем духом, который был сформулирован в этой статье. Мы старались делать партию такую, которая бы занималась действительно нравственной политикой, в которой нравственные, культурные основания лежали бы в основе всего того, что мы делаем...
Конечно, тут же я собрал свои вещички, задрал штаны и поехал знакомиться в Москву с Григорием Соломоновичем. В мае 69 года меня пообещали познакомить, я долго ждал этого момента, но как сегодня это называется, меня кинули. Мне не удалось этого сделать тогда. Я познакомился с Григорием Соломоновичем только после выхода из заключения, когда я приехал в Москву, чтобы готовить свой журнал. Журнал создавался для подготовки интеллектуальных и нравственных оснований политически ориентированных молодых людей. С моей точки зрения, вот-вот должно было наступить время перемен и должны были появиться новые политики, а для меня «политика вне нравственности – это преступление». Эта концепция была сформулирована мной в ключевой работе моей жизни, написанной в 72 году. Политика должна быть в контексте культуры, культурная оболочка политика предопределяет результаты, которые мы получим.
Тогда нам не удалось тоже поработать с Григорием Соломоновичем. У нас была одна короткая встреча, после которой я уже совершенно не мог отделаться от давления КГБ. В Москве начал выходить другой журнал, его стали издавать те люди, которых я собирал, назывался он «Поиски». Только уже позже, после этого, мы начали чаще встречаться с Григорием Соломоновичем. Мне кажется, что тот вклад, который он внес в развитие нашей диссидентской мысли, недооценен. Мне кажется, что книги Григория Соломоновича должны стать настольными. И поэтому я с особым удовольствием представляю вам Григория Соломоновича и я надеюсь, что знакомство с ним для вас будет столь же важным, каким оно было и для меня.
И помимо этого предисловия, я хочу сказать еще одну вещь, может быть, меньше относящуюся к делу. Дело в том, что все мои представления о том, как развивается государство, все мои представления о том, что должно быть, о том, что правильно, что неправильно, каково место традиции, каково место революции в развитии общества, в значительной степени окрашено большим объемом текстов, которые я прочел по Китаю. Китайская история и китайская культуры очень недооцениваются нашими историками и вообще нашими представителями общественной науки. Китай лежит как бы на периферии нашего интереса, у нас совершенно западно-центрическое или европо-центрическое представление. Китай же представляет собой едва ли не больший по масштабу мир, чем Европа. Мы его не знаем.
Интерес к Китаю у меня зародился как раз после статьи «Нравственный облик исторической личности». То, что я прочел там, было для меня совершенно неизвестно. После этого я жадно стал искать любые сведения о Китае, пока, наконец, не зарылся в огромный пласт синологической литературы. Наша китаистика, российская китаистика, мне кажется, очень хороша, очень значительна. Поэтому мне удалось получить очень много сведений. И я повторяю, это находится несколько на обочине того, о чем я говорил, но лично я , может быть, впервые об этом говорю Григорию Соломоновичу. Я хочу его поблагодарить именно вот за это. Я был бы не я, если бы не интерес к Китаю, а этого интереса, может быть, никогда бы не было, если бы не статья...
Померанц: Спасибо! Раз уж началось с этого, то я должен отдать долг памяти одного синолога, по-русски китаиста, покойного, Виталия Рубина, который был моим первым учителем в этой области. Я помню, когда я в одном из первых своих легальных выступлений на одной их дискуссий, упомянул имена Ашоки и Цинь Ши Хуанди, то Гефтер, председательствующий, спросил Рубина: «Откуда Померанц это знает?»
Игрунов: Сам Гефтер этого тоже не знал...
Померанц: Сам Гефтер этого тоже не знал. А Виталий ответил: «Я ему это рассказал». Он, действительно, был страстным конфуцианцем, не то чтобы в буквальном смысле, но поклонником Конфуция, противником школы Фа-Цзя, которая ему напоминает сталинскую теорию нарастания классовой борьбы, и он очень горячо мне излагал принципы жень, принципы человечности, на которых Конфуций основывал свою философию. Так что я сам многим обязан.
А текст этот потому так получился, что он не был написан. Это была живая речь. Это была речь, произнесенная в Институте Философии 3 декабря 1965 года и которую потом находили в списках КГБ. И люди потом, оправдываясь, говорили, что это было сказано в Институте Философии, а гэбэшники говорили, что этого быть не может!
Тем не менее, это было. И это было в обстановке, которая в то время сложилась Институте Философии Академии Наук благодаря Юрию Александровичу Леваде. Он и сейчас подвизается в социологии. Когда он пригласил меня участвовать в конференции «Личность и общество», что-то в этом духе, то я осторожно спросил его: «А можно касаться Сталина?» Он так посмотрел на меня с полуубкой и сказал: «Поскольку ЦК взял курс на реабилитацию Сталина, то можно». Вот единственная договоренность, которая у меня была. И очень важно, что меня партийная организация Института Философии не выдала, потому что после моего выступления Семичастный, который возглавлял известное ведомство, звонил Леваде и требовал признать мою речь антисоветской. Леваду вызывали в Президиум и он доказывал, что она выдержана в духе XX съезда, который уже ЦК ревизовал, но съезда-то не было – это такая есть тонкость.
А через день, 5 декабря, была демонстрация, организованная Есениным-Вольпиным у памятника Пушкину и после нее Семичастный опять звонил в Президиум Академии Наук и опять требовал того же и опять Левада отбился. И как-то против партийной организации Института Философии трудно было идти, а потом еще отнесли текст моей речи в журнал «Новый мир», Твардовский, тогда еще член ЦК, согласился принять этот текст в портфель «Нового мира», как будто бы он собирается это публиковать. И это был редкий случай, когда Семичастный...
Игрунов: Отступил.
Померанц: Отступил, да. Это я все к тому говорю, что поэтому это все так живо получилось. Это одна из самых популярных моих работ. С точки зрения высокой теории она, может быть, немножко даже слишком популярная, но зато это было сказано, сказано со страстью, после того, как я три недели в уме твердил, что мне надо сказать и как мне надо убедить аудиторию. И когда отдельные гэбэшники, которые были в Институте Философии - Институт Философии был в значительной степени гэбэшной организацией... И либеральное там было крыло, и гэбэшное... Гэбэшники вскакивали – им, очевидно, хотелось меня прервать, но их хватали за плечи и сажали. Так что вот это было попыткой почувствовать и понять, что можно сделать в одном выступлении. Только в одном выступлении одного человека, который ни с кем не сговаривался. Но должен признаться, что я понимал, что если я подряд два или три раза такие вещи говорил бы, то меня бы посадили, несмотря на то, что я там никаких законов не нарушал. Но один раз это удалось. И это дало толчок определенный.
Боюсь, что сегодня это будет не так эмоционально. Эта тема скорее теоретическая, но – вот любопытная связь ассоциации – я вышел на нее тоже в день, связанный со Сталиным, 2 марта 2002г. В доме моего старого друга, уже покойного в это время, где 5 марта всегда собирались отметить этот большой праздник свободы... И я оказался в группе, где был профессор Кацура, который сказал, что они издают энциклопедию глобализации. Я сказал: «Термин-то новый, а я об этом думаю уже много, и я рассматриваю глобализацию как исторический процесс». Я говорю, что это ведь длится 4 тысячи лет, а сейчас только новое слово появилось. Это очередная стадия глобализации. Он меня послушал-послушал и говорит: «Напишите нам». А я говорю: «Что же написать?» – Ну вот то, что Вы говорите, то и напишите. И вот так родилась эта статья, принятая в энциклопедию - «Стадии глобализации». И потом я из этого немножко расширил, статью сделал, она будет в «Вестнике Европы», сейчас верстка там у меня идет.
Так вот, с моей точки зрения, одним из постоянных явлений истории является укрупнение социальных единиц, начиная с какой-нибудь группы в несколько десятков человек, слабо связанных с другими родственными группами, через племя, которое как-то организовано, государство, потом мировые империи и так далее. Слово «глобализация» я не знал, но процесс этот я уже представлял. Так вот, первая стадия, это появление царей, которые называли себя царями четырех сторон света. Сила царств, возникавших во II тысячелетии до Рождества Христова, была уже такой, что завоевательный пыл иногда позволял какому-нибудь Ассурбанипалу или Ассургаддону захватить несколько городов, несколько царств и создать единую державу. Но державы эти были рыхлые и по отношению к ним совершенно прав, в данном случае, Лев Николаевич Гумилев, который говорил, что крепок только этнос, племя, а суперэтнические, как он выражался, то есть, сверхплеменные организации, рыхлые и легко распадаются. По отношению к предприятиям всяких Ассургаддонов это соверешенно верно, но не дальше.
Дальше, где-то опять-таки за несколько веков до Рождества Христова, уже в первом тысячелетии, начинает складываться устойчивая субглобальная цивилизация. Они складывались двумя путями, но каждый раз это приходило к сочетанию некоторой администрации с мировой религией. Начинать можно было с любого конца – Рим и Китай начинали с создания административно-правовой системы. Говоря административно-правовая, я, прежде всего, имею в виду Рим. В Китае это были, скорее, этико-философские системы. Право там медленно формировалось. Но этико-философские принципы строительства государства обсуждались, и государство строилось по теории – впервые в человеческой жизни! В Риме на основании сформулированных принципов администрации и права, в Китае – на основании сформулированных принципов – если хотите, политологии. Родина политологии – это Китай. Те школы, которые спорили в древнем Китае, как строить империю, по существу, первые школы политической мысли, причем тесно связанной с действием, на основании которых они начинали действовать. Великая китайская империя была создана Цинь Ши Хуанди на основании философской школы, которую называли Фа-Цзя, школой государственных законов, очень напоминающей, я повторяю, концепции Иосифа Виссарионовича Сталина. Но характерно – почему мне этот пример очень нравился – что уже при сыне Цинь Ши Хуанди эта династия пала. Существовал такой анекдот, возникший в 20-е годы среди коммунистов, многие из которых Талмуд знали. И вот анекдот такой. У Филляля – был такой мудрец, живший 2000 лет тому назад - спрашивают, можно ли построить социализм в одной стране. Он сказал можно. Но дальше, добавил средневековый комментатор, жить в этом государстве нельзя будет. Это относится ко всякой сверхдеспотической системе. Система Цинь Ши Хуанди, основанная на доносах и казнях, была просто немыслима для человеческой жизни и она пала уже при его сыне. И когда прошло несколько лет смуты и установилась новая династия – Хань, которая популярна в глазах китайцев, называющих себя ханьцами до сих пор. Конфуцианцы, реабилитированные – Цинь Ши Хуанди их уничтожал – реабилитированные конфуцианцы провели государственный закон, что сын, донесший на своего отца, подлежит смертной казни. Даже донесший на важнейшее государственное преступление. Таким образом, заранее была исключена возможность появления Павлика Морозова.
Другой путь – сперва была религия и религия формировала политику. Самый простой путь – в исламе. Был пророк Моххамед, который убедился, что одной проповедью много среди арабов не возьмешь, и от проповеди перешел к довольно коварной и умелой государственной политике. И уже наследники его – Халиф, значит, наследник (на самом деле - заместитель - Г.П.) – создали такую религиозно-политическую систему. В Индии это было дольше, сложнее, интереснее. Там сложилась такая религиозно-кастовая система, державшаяся на том, что нарушитель кастового закона поплатится за это в следующей жизни, которая обеспечивала общественное воспроизводство, разделение труда без всякой политической власти, даже при любом хаосе. Поэтому с точки зрения брахманов, которые вдохновляли эту систему, было не очень важно, как князья грызутся между собою. В конце концов, так или иначе, ткач будет ткать, а горшечник – обжигать горшки. Но, в конечном счете, завоеватель получал благословение, и единство религии и политики достигалось.
Вот это религиозно-политическое единство оказалось очень прочным. И вот по отношению к этим субглобальным цивилизациям Лев Николаевич Гумилев решительно не прав. Они сильнее, чем этнос. Любое племя, попадавшее в Китай, окитаивалось. Самые могущественные народы, завоевывавшие полностью Китайское государство, создававшие новую династию, неизбежно подчинялись мощи Китайской культуры. То же самое происходило в Индии, но на другой лад. Завоеватели становились новой кастой в сложной системе каст индийского общества. Они, через пару поколений, заботясь о своем престиже, нанимали брахмана, знатока истории, который писал им родословную, в которой их предками оказывался один из богатырей Махабхараты. ...Таким образом, так или иначе, любое новое племя подчинялось могучей культуре и становилось носителем этой культуры.
Сходным образом в средневековой Европе азиатская орда венгров, вторгшаяся на Дунай, через несколько поколений превратилась в обычный крестьянский народ, не очень сильно отличавшийся от своих соседей. Да и вообще все варвары, которые, в общем, и создали новые европейские народы, тоже постепенно подчинились обаянию культуры, завещанной христианским Римом.
Я могу привести еще один любопытный пример. В средние века Иран был завоеван сперва арабами, потом монголами, потом турки-сельджуки там прошли, но даже находясь в подчинении, иранцы сумели создать такую блестящую литературу, такие мудрые книги суфийских притч, что когда в 15 веке тюркский религиозно-политический союз, Кызыл-баши, захватил Иран, то государственным языком был признан не их варварский язык, который они презирали сами, а престижный ново-персидский язык. И с тех пор Персия не выигравшая и не давшая ни одного сражения, стала снова самостоятельным государством. Следующая династия была уже чисто персидская. Правда, субглобальную цивилизацию самостоятельно они не могли создать, потому что нового писания они не создали. Это произошло уже в рамках ислама, где они сильно потеснили арабский язык и арабскую культуру.
Потом, когда начались интересы к информатике, я заново посмотрел на эту проблему и увидел, что каждая субглобальная цивилизация может быть очерчена одним набором признаков. Это единое для всей субглобальной цивилизации священное писание или, если хотите, набор священных текстов. Это язык священного писания и, наконец, казалось бы, такая маловажная вещь, как шрифт священного писания. Скажем, западная цивилизация – это латинский перевод Библии, который стандартен для католической церкви, это латынь как язык средних веков, сохранивший свое влияние и в новое время, в науке и в церкви, и, наконец, это латиница как шрифт, связанный в чем-то и с эстетикой изобразительных искусств. В Арабском халифате – священный текст Коран, язык арабский, шрифт арабский, который использовался и всеми народами, создавшими самостоятельную письменность, будет ли это персидская литература, или литература тюркская – они все пользовались арабским письмом.
Дальше Индия, как субглобальная культура, очерчивается набором текстов древности: Веды, Упанишады, Бхагават-Гита... Язык Санскрит, дальше на Дальнем Востоке шрифт деванагари – набор основных текстов китайской цивилизации, к которым постепенно после некоторых колебаний, был причислен и набор буддийских сутр. И китайские иероглифы, которые, если хотите, и язык, и шрифт. Границы Дальнего Востока очерчиваются употреблением этих иероглифов: это собственно Китай, Корея, Вьетнам до того, как его, конечно, пересоздали французы...
Игрунов: На этом основании корейцы создали свой собственный алфавит.
Померанц: Ну, может быть, хотелось им обособиться. Но вообще, скажем, в Японии одновременно с китайскими иероглифами, для дам, которые не могли выучить китайский язык – это было очень трудно - была создана слоговая азбука. Наряду с китайскими иероглифами была еще слоговая азбука звукового характера. И поэтому дамы в Японии стали первыми классиками японской литературы. Мурасаки Сикибу, написавшая Гэндзи-моногатари, и Сэй Сёнагон – это кличка – были придворные дамы. Мужчины считали солиднее писать по-китайски. Так что японская прозаическая литература началась с женщин.
Во всех культурах Дальнего Востока, даже если они выработали самостоятельные азбуки, были в ходу китайские иероглифы. Японец, приезжавший в Китай, не знавший, конечно, как в Китае разговаривают, просил или имел при себе бумагу, писал кисточкой, что он хотел выразить иероглифами, китаец это прочитывал и на бумажке же ему отвечал. Иероглифы же могут звучать по-разному. Скажем, один иероглиф в Кантоне звучит Те, а в Мугдене звучит Ча. Поэтому чай называется по-разному в России, получавшей сухим путем чай, и на Западе, который получал чай морским путем.
Границы Запада – это латинский шрифт, границы мира ислама – это арабский шрифт. Теперь вопрос – если уже существовала довольно стабильная административно-правовая система, то зачем понадобилось импортировать религию? Ибо римляне сами не создали новую религию - они были в этом отношении довольно бездарны, ни китайцы не сумели завершить здание духовной империи. Хотя они были более одарены – и Лао Цзы ближе к мистике. И Конфуций может рассматриваться в рамках религии. Его этика имеет религиозный характер. Общим процессом было то, что в больших городах древности стирались границы между племенами. А боги и связанные с ними образцы поведения всегда имели племенной характер. И поэтому, когда в больших городах стирались границы между племенами, возникало то, что по-научному называют аномия, то есть, отсутствие закона, отсутствие твердого нравственного порядка. И, кроме того, примитивные племенные боги часто не устраивали новое, более глубокое философское сознание.
Мировые религии имеют постфилософский характер. Они обращаются к человеку, который уже мог пройти через философскую критику племенных религий с их примитивными образами, с Зевсом, который ухаживает то за одной дамой, то за другой дамой и так далее. Созрела потребность в религии, для которой «несть ни эллина, ни иудея». Для которой нет различия между племенами, которая обращается к каждому человеку индивидуально. Уже личность выделилась из племени. И вот такую религию, личностную, доходившую до глубин сердца, в которой чувствуется присутствие чего-то такого, что невозможно назвать словами, но что некоторые живо чувствуют и могут как-то метафорами выразить. Если такую религию народ сам не мог изобрести, он ее импортировал. И римляне заимствовали имперскую религию, созданную в основе евреями, развитую затем греками, собственно римляне прибавили к ней только каноническое право. В Китае с первого века распространялся буддизм, сперва это вызывало разное к себе отношение, потом постепенно он как-то очень глубоко вошел в быт, как школа духовного самоуглубления. В Китае, все было медленно, не торопясь... Один из императоров династии Мин издал эдикт, согласно которому Кун Фу Цзы, велики мудрец, Конфуций его произносят, Лао Цзы и Будда были признаны небесными покровителями Поднебесной.
Эти четыре субглобальных мира существуют и сейчас. Не существует единой завершенной мировой цивилизации, но, начиная с великих географических открытий, происходит третья стадия глобализации – колониально-торговая. Она имела очень слабое духовное измерение. Христианские путешественники привозили с собой миссионеров, которые обращали в христианство племена там, где мировой религии еще не было. Таким образом, были обращены индейцы Южной Америки, прибрежные африканцы, островитяне, но там, где пропаганда веры сталкивалась со сложившейся высокой религией, христианство добивалось очень немногого. В Индии, в Китае очень слабые были успехи. И совсем ничего не добивалось христианство в мире ислама. Таким образом, завершенного мирового здания глобальной цивилизации не получилось. Более того, процесс распространения некоторых азов европейской культуры шел одновременно с продолжающимся кризисом, прежде всего, религиозным, потом общим духовным кризисом Европы.
Я как-то в переписке с живущим сейчас в Мюнхене старым своим приятелем упрекнул его в том, что он недооценивает кризиса Западной цивилизации. А он мне ответил, что цивилизация и есть кризис. Я сперва подумал, что это отговорка, а потом подумал, что да, цивилизация нового времени есть постоянный кризис, постоянная ломка в сравнении с более медленным течением истории в предшествующих субглобальных цивилизациях.
Кризисы случались с того времени, как началась история. Не было кризиса, как мне кажется, в племенной жизни. Племя испытывали бедствия внешнего характера. Например, племя могло оказаться в условиях страшной засухи, или засоления почв, или болезни страшной. Но это были бедствия, приходящее извне. Внутренних кризисов племена, по-моему, и не испытывали. Кризисы начинались там, где начиналось строительство какой-то большой государственной культуры. История Египта четко делится на Древнее Царство, Среднее Царство, Новое Царство. Между этими периодами - периоды кризиса, смуты, вызванные какими-то внутренними причинами. Это уже кризисы, созданные развитием самой культуры, созданные самими людьми. Однако, если вы прикинете, сколько лет существовал Древний Египет, то становится очевидно, что кризисы были редкой вещью – они случались, а потом снова устанавливался какой-то медлительный ритм движения, в котором изменения хотя и происходили, но редко и сменялись таким бескризисным бытием.
Начинается Новое время с кризиса Католической Церкви. Лютер прибил свои тезисы к дверям собора, началась реформа, начался протестантизм, возникли войны между протестантами и католиками, которые уже в 17 веке дошли до такого ужаса как 30-летняя война, во время которой население Германии в целом было истреблено на 2/3. Осталась только треть населения после этих 30 лет войны. Разумеется, не в силу того, что всех резали, а уже была масса сопутствующих явлений... А в наиболее пострадавшем районе, в Богемии, население даже сократилось в 4 раза. В результате возник поворот в общественном сознании, поворот к религиозной терпимости, который был связан и с некоторым отодвиганием религии на второе место. На первый план выдвигается светская мысль, пытающаяся отодвинуть религию назад, дать какие-то общие философские принципы, то есть Просвещение. Это кончилось, однако, новым кризисом. Начинается эпоха идеологических кризисов. И фанатизм якобинцев не уступал религиозному фанатизму. И в своей стране, и в других странах 20 века мы увидели продолжение этого процесса.
Свободная инициатива создала экономику, в которой кризисы происходили постоянно. И Маркс отчасти прав, говоря, что это экономика вышла из кризиса только средствами, которые делают неизбежным следующий кризис, еще более глубокий. Он не учел только могущества науки, которая помогла выйти из этого тупика. Он мыслил в чересчур узких экономических терминах. Научно-техническая революция дала выход из этого порочного круга экономических кризисов, которые по Марксу, должны были привести к крушению капитализма. Они дали новый импульс развития, но общая схема, что выход из кризиса цивилизации, основанный на свободной инициативе, приводит к новому кризису, по-моему, верна. Научно-техническая революция увеличила угрозу экологического кризиса. Стремительный рост промышленности вплотную подвел к нехватке ресурсов, к проблеме засорения естественной среды и так далее.
Существует любопытная книга Назаретяна «Цивилизацилнные кризисы» (в контексте Универсальной истории), в которой он признает, что ничем не сдержанное развитие науки и техники приведет к устранению человека. Для человека жизнь на земле станет невозможной. Но он видит выход в том, что продолжать развитие будут роботы или какие-то гомункулусы, созданные на основе соединений кремнезема. Вы можете эту книжку прочитать, она издана в 2001г., она любопытна, хотя, по-моему, совершенно ложна, по основной мысли. Я об этом думал и прочитаю вам сейчас кусочек из статьи, в которой я пытаюсь показать, что вот такой взгляд о неизбежности безграничного развития науки и техники, хотя бы для этого пришлось людей заменить роботами, связанный с одной субглобальной цивилизацией, вовсе не является общечеловеческим. Что он, по существу, скорее, означает банкротство одной из тенденций западной цивилизации, которую можно называть сциентизмом.
Размышления вокруг этого связано вокруг события, которое произошло как раз почти год тому назад, 11 сентября 2001 года. В откликах на это событие я впервые услышал некоторые слова, которые совпадают с моими мыслями: что эпоха секуляризма, эпоха, в которую религия все более и более отодвигалась на задворки, тоже близка к своему концу. Эту интересную теорию создал Юрген Хабермас. В речи во Франкфурте на книжной ярмарке в октябре 2001 года он произнес слова, разбежавшиеся на десятки откликов. «Сотворенность образа Божия в человеке будит интуицию, которая нечто говорит и религиозно немузыкальному человеку». То есть, понимаете, тут неважно, что именно. Фраза из Библии нечто говорит и религиозно немузыкальному человеку. Не неверующему, заметьте, а религиозно немузыкальному. Слово было в контексте спора о допустимости клонирования, но до меня эти слова дошли в одной из оценок 11 сентября. Я сам человек религиозно немузыкальный, но думаю, что наступил конец эпохи секуляризма.
Современный Запад религиозно немузыкален. Это очень точная самохарактеристика. О ней можно сказать, как Бродский о бабочке – «Ты больше, чем ничто». Сознание своей немузыкальности по-своему, негативно, отсылает к музыке и даже позволяет кое-что сказать о музыке. Сознание ограниченности плодотворно. Хабермаса оно вдохновило перевести религиозный аргумент против клонирования, начисто отвергаемый сциентизмом, на язык этики. Человек не вправе определять судьбу сознательного существа, не спрашивая его согласия.
Развивать дальше идею, связанную с этим, я в этом контексте не буду, только замечу, что религиозная музыкальность – дело, не требующее виртуозности. Это дело, доступное каждому. Ее так же можно развить, как понимание музыки Баха. Понимание в этом контексте значит примерно то же, что и для Кити и Левина, когда они объяснились в любви, объяснились без слов.
К сожалению, перегрузка интеллекта разрушает природную музыкальность ребенка. Природные дикари часто музыкальнее нас, слышат то, что мы не слышим, и передают то, что расслышали, в своих мифах. Но упадок духовной простоты и ценности не неизбежно.
Немножко отступлю в сторону. Вообще развитие не есть движение от плохого к хорошему: развитие человеческой истории есть движение от примитивной цельности к запутанной сложности, которая, в свою очередь, полна проблем и трудностей. Поэтому это сложнее, чем это себе представляют люди, склонные к идее прогресса. Упадок духовной простоты и цельности не неизбежен и может быть преодолен лично, не дожидаясь исправления общества. Иногда отзывчивость к духу целого сохраняется в какой-то области целым народом. Например, японское чувство цветущей вишни как Японии. Но наружные обычаи сравнительно поверхностны. Глубинная интуиция – личный дар. Мышкин не может объяснить, почему и как он чувствует в каждом дереве присутствие Бога, заглушенного в человеке, и, созерцая дерево, причащается Богу. И никто вокруг не понимает его слова: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым!»
Эти заметки сложились на полях книги Назаретяна «Цивилизационные кризисы». Несмотря на резкое несогласие с его неосторожными заходами в область, где разум, говоря словами апостола Павла, становится безумием, я читал эту книгу с большим интересом. Захватывает блестящая эрудиция, целые энциклопедии научной информации, которые надо держать в голове, думая о 21 веке и многих последующих веках. Иногда на миллионы и миллиарды лет вперед. Автор понимает, что научно-технический прогресс, если не остановить его, непременно разрушит биосферу со всеми нами вместе. Он готов принести в жертву жалких потомков кроманьонцев и создать новых носителей разума на основе кремнезема или других гомункулов. Зачем? Чтобы разум стал повелителем Вселенной? Допустим, хотя в последней главе оказывается, что господство разума завершается невыносимой космической скукой.
Откуда берется уверенность, что прогресс науки и техники высшая ценность? Наука не может этого доказать. Истинность системы не может быть, как известно, доказана в рамках самой системы. Она постулируется извне, и только в странах Запада сциентизм захватил миллионы людей. В великих субглобальных цивилизациях Востока господствуют другие идеи, а поэтому сценарии, основанные на безусловном господстве сциентизма, построены на песке. Я полистал огромный список литературы в книге Назаретяна, около 400 названий, и нашел там имена классиков культурологи, но в тексте они не чувствуются. Сциентизм отторгает интуицию Шпенглера и Тойнби вместе со всеми последующими разработками. А, между тем, остановить разрушение биосферы – трудная задача. Но не более трудная, чем заменить людей роботами. Глобальная культурология дает нам конкурс четырех субглобальных цивилизаций, оказавшихся в одном пространстве электронной информации. На уровне книги, их все-таки, четыре, то есть на уровне цивилизации, которая еще не дошла до телевидения, Интернета... И эту многовековую традицию невозможно стереть. Центром каждой субглобальной цивилизации остается святая книга, со своим языком и шрифтом, как зримой оболочкой ее духа. Своеобразное единство пронизывает все субглобальные культуры, проекты глобальной культуры и окрашивает решение основных проблем жизни. И если Запад не найдет пути к самоограничению, к паузе созерцания и, в конечном счете, к цивилизации, живущей в гармонии с природой, то роль гегемона может перейти к другой субглобальной культуре или к блоку незападных культур, достаточно сильному, чтобы удержать мир от гибельной расточительности.
Вот на этом фоне произошел очередной выход из экономических противоречий. Четвертая стадия глобализации – электронно-финансовая глобализация. Это довольно сложный механизм, который я, конечно, не понимаю... Но вот я читал Сороса – он что-то понимает и умеет этим пользоваться. По оценке Сороса – вы можете прочитать его статью во 2-м выпуске «Вестника Европы» за 2001 год, резко растет разрыв между бедностью и богатством внутри каждой страны, и особенно резок разрыв между бедными и богатыми странами. Этот разрыв настолько угрожающий, что Сорос предлагал обложить богатые страны 10 %-ым налогом для перестраховки и бедных стран, которые не входят в «семерку». Кроме того, и Сорос об этом не говорил, произошел резкий рост влияния США, который не соответствует духовному весу этой страны.
Я кончу следующими соображениями. Сейчас вместо европеизации уже говорят о вестернизации. Это стыдливый термин, означающий постепенное выдвижение Америки и, по существу, сейчас уже предлагается всему миру американизация. Но это совершенно разные вещи. Европа тем отличается от других субглобальных цивилизаций, что это хор, в который вы можете вступить со своим голосом, со своим, так сказать тембром. Россия вступила в Европу и осталась Россией, Япония, в культурном отношении оставаясь географически в Азии, вступила в Европу, оставаясь Японией, Турция – оставаясь Турцией. В Америку нельзя вступить, оставаясь самим собой. Можно только занять место какого-нибудь 68 или 72-го штата. Америка – это отдельная страна. Она хорошая страна сама по себе, но, выдвинувшись на место глобальной цивилизации, она, так сказать, слишком много себе взяла. И в результате вызвала против себя страшный гнев, который многие американцы даже не понимают. Вызвала какой-то взлет антиамериканских чувств. В том числе в Европе.
Парадоксальный факт, но Франция, которая в Новое время, начиная с Вольтера, Руссо, Дидро и так далее, всегда была носителем общечеловеческих ценностей, идеи общечеловеческого прогресса, по отношению к новейшей стадии глобализации занимает, я бы сказал, почвенническую позицию. Она защищает индивидуальность страны. Если реальность постмодернистской культуры, воплощенной, прежде всего, в телевизоре и других соответствующих изобретениях, это, в первую очередь, американское дело, то критика этого – преимущественно французское занятие и философия деконструктивизма и постмодернизма в значительной степени представляют собой французскую критику американского осуществления этой новой информационной революции. На этом фоне выступают претензии других субглобальных культур. Особенно остро сейчас звучат претензии ислама, но я думаю, что на заднем плане стоит еще Китай, у которого гораздо больше оснований претендовать на роль гегемона.
На этом я тогда кончаю, потом что я много наговорил и послушаю вопросы.
Вопрос: Считаете ли Вы, что религия определяет культуру во всех цивилизациях? И какова роль религии сейчас, на четвертой стадии глобализации?
Померанц: Религия органически связана с культурой в целом. Она и определяет и определена. Когда некий импульс, который трудно объяснить, приходит к человеку, к мистику, и когда мистик чувствует в глубине сердца, что ему что-то диктует, он чувствует присутствие высшей силы, то высказать он это может только на языке своего времени и своей культуры. Бог не говорит ни на иврите, ни на санскрите, ни по-арабски, ни по-русски. Импульс, который получает человек, чувствующий присутствие божества, всегда приобретает в его голове форму человеческой речи, окрашенной его культурой, его представлениями о жизни, на его языке, связанной законами его грамматики. В Апокалипсисе вы не найдете автомобилей или самолетов. Там всадники с мечами – другого себе человек не мог представить, хотя несомненно, что это писалось в озарении и что-то человек предчувствовал, но образы, рождавшиеся в его сознании, подсказаны, действительно, силой времени. Поэтому религия и определяет, и определена. Она просто органически связана с культурой. Она дает некие мощные толчки, которые действительно дают формы, направление последующему развитию. Оно вдохновляет великое искусство, через которое какие-то озарения доходят до человека, который сам непосредственно такого мистического опыта не пережил. Скажем, человек, не обладающий особыми способностями, а просто слушающий Баха или глядящий на иконы Рублева, получает впечатление присутствия высшей силы, имеющей этическую окраску и поэтому имеющую значение для культуры в целом. Я могу и дальше развивать эту тему, но, по-моему, основное направление ответа я Вам дал. Язык религии – это всегда язык данной культуры и, вместе с тем, в нем рождаются и некие сдвиги в этом языке.
Игрунов: Григорий Соломонович, мне кажется, - может быть, я ошибаюсь - что вопрос был задан в том числе вот в каком контексте: Вы не полагаете внерелигиозных культурных процессов на этой четвертой стадии глобализации?
Померанц: Они, конечно, происходят... Дело в том, что слово «религия» даже может быть устранено. Можно говорить в светских терминах. Антоний Сурожский, очень интересный человек, единственный в Московской Патриархии, к речам которого я прислушиваюсь, кстати, слава Богу, живший все время за рубежом, сын эмигранта и сам эмигрант, в последнее время все больше ищет такого общего светского языка для того, чтобы передать свою интуицию. Ему принадлежит такое вот высказывание, что каждый грех есть, прежде всего, потеря контакта с собственной глубиной. Тиллих, один из крупнейших протестантских богословов 20-го века, говорит, что религиозным является предельно глубокое и серьезное в любой области культуры. То есть, мы приходим к пониманию, что культура, утратив свою связь с традиционной религией, в чем-то обветшавшей по языку, в чем-то утрачивает и символику, помогающей вглядеться в собственную глубину. Человек теряет путь в собственную глубину, теряет потребность вглядываться в собственную глубину. Человек привыкает к жизни на поверхности. Чтобы вслушаться в глубину, надо приучиться жить в тишине, в созерцании. Это можно научиться делать без всяких богослужебных книг. Как сказал князь Мышкин «разве модно видеть дерево и не быть счастливым?» Является ли это высказывание религиозным? Формально нет. И поэтому сейчас неофиты, ставшие строго православными, как всегда пересаливающие, люди постарше вас, но не очень старые, сейчас очень атакуют князя Мышкина, примерно в том духе, если вы помните пушкинского «Бедного рыцаря»:
Как со смертью он боролся,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
«Он-де Богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за Матушкой Христа».
Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в Царство Вечно
Палладина своего.
Во втором варианте Пушкин смешочки вегетарианские отбросил. Но тоже, заметьте, «Бедный рыцарь» заканчивается без всякого отношения к Церкви.
Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Так что речь идет просто о возвращении к глубинам, о том, что надо пробивать путь в глубину. Я долго думал о выходе из бельичего колеса нарастания, нарастания, нарастания материальных объемов производства, которое просто захватывает человека и не дает ему выйти. Высокоразвитого. Что странно. Я беседовал с людьми, долго жившими на Западе – сам я только мимолетом там бывал - остановить эту машину, как маховик на ходу, сразу невозможно. Но думаю, что возможно добиться паузы созерцания. Пауза созерцания, в которую человек может вглядеться в жизнь как в целое и увидеть что-то как целое, а не только как вихрь частных проблем, которые все время надо решать, решать, решать, а потом куда это все идет - перестаешь понимать.
Так вот, для меня ценность религии как сложившегося писания, культов и прочее – это просто традиция прошлых прорывов в глубину, которая не только не исключает, а предполагает новые прорывы в глубину, которые могут быть на словах совершенно другими. Но, по определению Тиллиха, всякий прорыв в глубину – это нечто спонтанно религиозное, как он это понимает, так же как религиозна музыка Баха, даже если бы он, допустим, концерт сочинял, а не мессу. Не знаю, удовлетворил ли я вас.
Вопрос: Вот Вы говорили, что Франция выступает против сложившейся ситуации, но не кажется ли Вам, что в принципе ей удобна сложившаяся ситуация. Ведь Америка сейчас тратит очень большие суммы на оборону и защищает интересы Европы. Поэтому Европа и не сопротивляется действиям Америки...
Померанц: Это все верно на политическом уровне. Но существуют другие уровни. Я имею в виду, прежде всего, гуманитарную интеллигенцию, которая очень неудовлетворена натиском вот такой попсы американского производства, и обороняется от этого философски. Я немножко подготовился по обзорным статьям –я не могу сказать, что я знаток, но такие мыслители как Фуко, Деррида, ... они очень критически относятся... Они просто не затрагивают финансовых проблем, они в основном критикуют массовую культуру, которое несет телевидение, вытесняя более глубокое мышление.
У меня был недавний небольшой опыт в области телевидения. По какой-то прихоти один из наших ведущих деятелей телевидения Александр Гордон решил нас с Зинаидой Александровной пригласить ночью на телевидение. Сидеть ночью мы отказались, он нас заснял в более удобное для нас, стариков, время, но потом действительно 25 декабря нас показал в час 20 минут. Мы с ним беседовали примерно о том, о чем мы с вами сейчас разговариваем. На религиозные темы. Я потом кассету послал нашей приятельнице Ирине Коноплевой, и та ее прокрутила в Норвегии, и несколько раз переводила им на норвежский язык. Все присутствующие сказали, что у них такое сейчас невозможно. Что больше пятнадцати минут считается, что зритель не выдержит... Что почти два часа по центральному каналу можно толковать вот на такие темы... Людей приучили к мимолетным впечатлениям. Это приводит к измельчанию духовной культуры.
И вот против этой системы программирования на поверхностном уровне, к освобождению от программирования, которое чувствует современный европейских интеллигент, и восстает гуманитарная интеллигенция Франции. То, что политики считают для себя выгодным использовать американские деньги, вместо своих собственных денег – ну что же, это другая сторона дела, но это не моя сфера, я эти материалы не изучал. Я обращаю внимание на то, что самая последовательная критика американской массовой культуры телевизионной оказывается во Франции, хотя они же, негодяи, создали фельетон - если вы читали «Игру в бисер» - фельетонизм же французское изобретение!
В XIX веке таким поставщиком дешевой культуры для масс была Франция, а сейчас Франция обороняется от еще более усовершенствованных потоков еще более примитивной массовой культуры, через CNN и так далее. То есть, элита всюду восстает против такого господства дешевки, которое приучает человека скорее к шуму, чем к более тонкому чувству. Вместо того, чтобы углубляться в себя, эта вся телевизионная псевдокультура - бывают исключения, сразу оговорюсь - приучает человека не вглядываться в себя, не задумываться о чем-то глубоком. Отрывает его от глубины, приучает его жить в постоянном шуме, и люди так привыкают к этому шуму, что пойти гулять не могут без того, чтобы не заткнуть в уши от плеера какой-нибудь там-там-там. То есть, возвращаются в эстетическом отношении... Американцы, в результате рабства негров, оказались пленниками своих собственных негров. Они по своей протестантской сухости и недостаточной эстетической развитости оказались пленниками очень эмоциональной культуры африканцев, ввезенных в Америку, и сейчас американская техника распространяет по всему свету, в общем, африканский там-там. Естественно, это вызывает у Европы некоторое возражение.
Тут есть любопытная вещь, что потом европейскую критику американской культуры на чисто духовом уровне подхватывают на Востоке, подхватывают, скажем, в мире ислама, где речь идет уже о силовом столкновении, о надежде вообще завоевать когда-нибудь Запад, который сел на иглу, явно выродился. «А вот тогда мы придем и наведем порядок!» Отсюда Бен Ладен и всякие такие прелести. Это грубо-агрессивная форма выражения вот этого протеста против вторжения западной культуры, потому что секуляризованная культура во всех незападных субглобальных цивилизациях воспринимается как культура западная. В общем, традиционные субглобальные цивилизации все сохранили какие-то духовные формы, хотя, может быть, неявно выраженные. На Дальнем Востоке они, между прочим, очень неявно выражены.
Игрунов: Немножко точнее - духовные корни как раз, наоборот, очень сильны, они просто не носят ярко выраженного религиозного характера...
Померанц: Ну да, не бросается в глаза, что это религия. Чайная церемония, например, это уже религия, но люди просто собираются и пьют чай, но только как-то иначе, чем мы... Вот такая домашняя литургия. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо за уточнение.
(...)
Вопрос: Как вы относитесь к позиции антиглобалистов и не может ли их позиция повлиять на процесс глобализации?
Померанц: Антиглобализм – это очень сложное явление. На поверхности это для некоторых мальчиков возможность похулиганить и именно на это больше всего обращают внимание. Но это поверхностно, а если говорить о более глубоком, то тут и то, о чем я вам говорил, и еще кое-что, о чем я не говорил. Дело в том, что процесс укрупнения социальных единиц, как я это называл раньше, когда не было слова глобализация приводит к тому, что малые народы стираются в порошок, они приучаются говорить, читать и писать на языке больших народов, на языке, на котором можно прочитать массу интересного и забывают свой язык.
Джеймс Виллингтон, директор библиотеки Конгресса, написал статью, в которой он рассказывал об огромной работе, которую проводит библиотека Конгресса, чтобы спасти для истории хоть кое-что от исчезающих языков, фольклоров, и так далее. Десятки языков исчезают со сцены. И вот есть такие живучие народы, которые не хотят исчезать, которые хотят оставаться. В этом отношении есть не очень упорные, которые легко начинают забывать свой родной язык. Помнят, что они там происходят от мордвы, но вообще мордва как-то особенно не бунтует, а вот чеченцы бунтуют. Чеченцы хотят оставаться чеченцами. Чеченцы хотят оставаться чеченцами, при этом они несколько диковаты, в особенности горные чеченцы, которые привыкли восставать...
В Испании есть два народа рядом, каталонцы и баски, оба народа со своей культурой, которые не хотят полностью смешаться с испанцами. Но каталонцы более расчетливы. Когда им новый король обещал, что их не будут угнетать, и предоставил им очень выгодную автономию, так что они в области культуры могут делать все, что угодно: переводить, например, в Барселоне, где половина жителей испанцы, а не каталонцы, школы на каталонский язык... Постепенно, не сразу... А баски, например, оказались романтичнее. Они обязательно хотят еще иметь свои собственные марки.
(...) Так что тут масса причин, которые надо изучать на месте, почему люди хотят сохранять свою этническую индивидуальность. Мы немножко бегло об этом говорили на круглом столе, кажется, последнем, на котором я был, в Фонде Горбачева. Там была Мариэтта Степанянц. Она сказала: «Я вообще, конечно, глобалистка, но с тем, чтобы глобализм никогда полностью не победил... Чтобы мы остались всегда этнически своеобразны». То есть, укрупнение единиц неизбежно, но ежели действительно все заговорят на плохом английском языке, а исчезнут великие культуры со свом своеобразным пониманием мира, это, по-моему, было бы катастрофическим для человеческой культуры.
