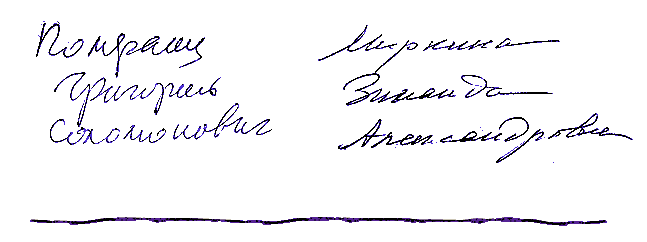
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
В обывательском представлении философ – человек не от мира сего. Григорий Соломонович Померанц, «последний из могикан», из плеяды властителей дум конца ХХ века, сполна разделил судьбу своего народа. Выпускник легендарного ИФЛИ, фронтовик, узник ГУЛАГа, диссидент, одна из знаковых фигур «перестройки», чья публицистика вызывала бурные дискуссии, он и сегодня, в свои 86, продолжает неустанно трудиться. Только что вторым изданием вышли его «Записки гадкого утенка» – книга о том, как он с детства «искал не другой птичий двор, а самого себя». И до сих пор ищет...– Григорий Соломонович, поделитесь секретом: как найти себя? Как научиться отличать подлинное от ложного, в особенности в наши дни, когда «заменой счастью», вспоминая Пушкина, стала не привычка, но успех?
– Я, пожалуй, расскажу, как сам к этому приходил... Меня в детстве очень смущало, что любой уверенный в себе мальчик мог меня легко сбить с толку. Я реагировал на чужое мнение, как римская чернь на речи Антония и Брута. Говорит Антоний – я ему верю, говорит Брут – я ему верю. Или как в истории партии: послушаешь Ленина – Ленин прав, послушаешь Мартова – прав Мартов. Но и на форуме, и на площади в Риме, и на съездах партии речь шла о вещах примерно одного, не слишком глубокого уровня. В общем, лет в 16 я начал пытаться отличать то, что меня более глубоко затрагивает, к чему я вернусь, хотя бы меня и избили, а меня били частенько, от того, в чем меня легко сбить, но пройдет момент – и отпустит...
Наши душа и сердце не представляют чего-то находящегося на одном уровне. И надо научиться проходить сквозь внешние пласты все глубже, прислушиваясь к голосу сердца. Тогда впечатления, которые ты получаешь от душевного опыта того или другого человека, располагают тебя ориентироваться в жизни на те впечатления, которые поддерживают в тебе глубину. Как к этому прийти – тут у каждого религиозного пути свой способ. Но и без оформленной религии существуют способы.
В 18 лет я вдруг почувствовал, что у меня есть какая-то точка вот здесь вот, около солнечного сплетения, которая у меня прямо реагирует на неправду. Первый такой случай был, когда мама меня спросила: «Неужели это и есть социализм?» – и я ей ответил, в свои 18 лет, все, чему только что выучился в школе... и сердцем почувствовал: за слова «общественная собственность на средства производства» никто на виселицу не пойдет, понимаете? Эта вот точка – я стал к ней прислушиваться и постепенно как-то начал отличать глубинное от поверхностного...
– И написали письмо Сталину с предостережением от излишнего увлечения террором. Тогда вас чудом не посадили, но после войны чаша сия вас не миновала.
– Да... Кстати, знаете, когда я научился понимать так называемую серьезную музыку? Как это ни странно, в лагере, где по репродуктору, по радио часто передавали симфонии Чайковского. По-видимому, толчком были белые ночи, это своего рода абстрактное искусство – облака, переливы, вроде ничего, а потрясает... И потом, быть может, сама обстановка: единственный голос из Москвы.
В общем, Бог или судьба сами посылают тебе пути. В юности я, например, совсем не понимал икон. И мне каким-то мостиком послужило новое западное искусство. В 30-е годы был Музей новой западной живописи (где теперь Академия художеств), и я туда ходил просто потому, что там мало народу: по крайней мере там Ренуар, я с удовольствием посмотрю на его дам, и мне никто не будет мешать. Но постепенно, когда я вгляделся в Ренуара, почувствовал, что у него гораздо больше сказано в переливах оттенков платья, а вовсе не в самой даме. От него мне было уже легко переместиться к Моне, и когда я вгляделся в Моне, он стал моим любимым художником. Я пошел дальше, дальше... и постепенно для меня перестали быть препятствием любые формы авангарда. Я всюду видел: дошел человек до какой-то глубины или просто бьет на эффект. Эффектное и глубокое – противостоят. Телевидение, например, – пока что – по природе эффектное явление, отбивающее чувство глубины...
В постижении глубины, в уходе на глубину, конечно, требуется большая сосредоточенность, нужны физические силы. У меня был случай, когда мне промывали мозги, в 84-м году, на Лубянке. Они специально подловили такой момент, когда у меня был гипертонический криз. Я вел там себя достаточно прилично, но дома начал себя жестко критиковать и почувствовал, что у меня чуть ли не галлюцинации возникают. И тогда я начал молиться: «Господи, останови мою мысль!» – соединив православную молитву с методом Кастанеды: по Кастанеде, если остановить мысль, какие-то силы входят. Была классическая ситуация стресса... Знаете, в ситуации стресса был поставлен мировой рекорд, но не зачтенный: человек сиганул через пропасть, спасаясь от зверя в Андах. И та стрессовая ситуация заставила меня молиться со страшной интенсивностью, не отрываясь. И я почувствовал, прямо физически, как ко мне приливают силы. Через полчаса я почувствовал, что от страха не осталось и следа. Я продолжал молиться еще полчаса и почувствовал, что я насыщен сил – и прямо на следующий день сел за стол и написал одну из глав «Гадкого утенка» – «Через страх».
Пойди и вымой свою миску
– В одной из лекций по истории русской культуры вы говорите о том, что духовный порыв неизбежно влечет за собой инерцию, переживание благодати – период богооставленности. Это какая-то психологическая необратимость, закон духовной жизни?
– Это вопрос, где я не полностью владею материалом, так что сошлюсь на опыт другого человека – Антония Блума, митрополита Сурожского, скончавшегося в прошлом году в Лондоне... Ему принадлежит парадоксальное утверждение: «Трезвость важнее вдохновения». Елену Львовну Майданович, его доверенное лицо в России, публикатора всех его книг, очень озадачили эти слова. «Как их понять?» – задала она мне вопрос. А очень просто, сказал я: вдохновение у него непрерывно. Для него проблема – как не дать вдохновению дойти до экстаза, в котором человек теряет осознание границ своего организма. Тогда экстаз приводит к опустошенности. Она подумала немножко и говорит: «Да, я часто замечала, что у него начинают разгораться глаза и вдруг он их... пригашивает».
– Знаете, одним из его любимых слов было «страстно». В беседах приходилось слышать от него: «Я это страстно ненавижу» или «Я в это страстно верю». Что для монаха все-таки рискованно.
– Страстность – потому что он всегда был страстен. И для него проблемой было сохранять трезвость в своих страстях. Если взять среднего человека, он ведь живет вяло, и для него всякая страсть становится увлекательной. Как говорил Горький, «на пустом лице и царапина украшение»... Вся декадентская литература основана на идеализации варварских страстей, потому что в буржуазном быте мы начинаем жить скучно... А он – нет, он все время живет в напряжении. И для него владеть собой – вовсе не обязательно потерять себя. Я не знаком, кроме как из чтения, с восточными методами, поэтому Антоний мне понятнее. Но, думаю, он именно это хотел сказать.
Я знаю, что восточные подвижники достигают состояния саматхи, и так далее, и вроде как потом все благополучно, но и там есть стремление сохранить равновесие... Интересный был разговор между учителем дзен Д.Т. Судзуки и его учеником, американским религиоведом Уотсом, который пытался доказать Судзуки (и это совпадало с некоторыми восточными традициями), что учитель может дать наркотик ученику, чтобы позволить ему перейти порог обыденного. А Судзуки отвечал в духе дзен притчей: «Ты уже позавтракал? – Да. – Так пойди и вымой свою миску»...
Вообще ведь и яды часто являются лекарствами. Но не дать яду не проявить свои ядовитые качества ни в одной культуре полностью не удалось. Будда запрещал наркотики начисто. Христос этого не делал по очень простой причине: нечего было запрещать, это не было принято на Ближнем Востоке... Очень верным кажется мне то – вот это самое «Пойди и вымой свою миску» – чувство просветления, чувство достигнутой глубины, в которой ты ощущаешь себя единым со всем, то есть, если говорить христианским языком, ты чувствуешь в себе присутствие Божие и подсказку Бога на каждом шагу... Это чувство достигается в простой бытовой обстановке. И есть замечательное стихотворение: «Как это удивительно, сверхъестественно, как чудесно: я таскаю воду на кухню, я подношу дрова». Понимаете?.. (Смеется). Вот это то, что другим языком выразил Антоний. Вдохновение в трезвости и трезвость во вдохновении. Современная культура, как бы сказать, удрученная скукой, сплошь и рядом бросается к чему-нибудь остренькому. И этим она может себя погубить...
– Григорий Соломонович, вы говорили сейчас о владыке Антонии, ушедшем из жизни, и вдруг вспомнилось, как недавно довелось услышать от Георгия Чистякова, священника и ученого, такие слова: «Время пророков кончилось – настало время клерков». А композитор Владимир Мартынов, один из самых известных сегодня, заявил в одной из своих книг: «Время композитора кончилось». То есть бегом, сломя голову, от публики-дуры... И впрямь покрутишь головой – ужаснешься: море попсы, и ни одного мудреца, гуру. Может, они России больше и не нужны? Что вы по этому поводу думаете?
– Если говорить о количестве людей, которых стоит послушать с кафедры, то, вероятно, это так. Для меня символичен, болезнен ранний уход Аверинцева. Не то чтоб мы были близкими друзьями, но когда встречались, говорили с ним совершенно откровенно, обо всем, он мне доверял, и я ему доверял. А когда расходились в чем-то во мнениях, а мы часто расходились, на него невозможно было рассердиться, нельзя было с ним поссориться, потому что право признания за собеседником думать по-своему в него было очень глубоко заложено. Таких людей, конечно, всегда мало.
Ну а если говорить о желании людей слушать, по-моему, оно сохранилось. Мы с Зинаидой Александровной Миркиной ведем небольшой семинар, и охотников слушать предостаточно. Правда, когда мы пытались вынести семинар в Политехнический, был такой случай, попалась слишком разношерстная публика. Что касается серьезной музыки, конца времени хороших композиторов и публики-дуры, то вспомните: музыка лучше всех других искусств пережила диктатуру пролетариата.
У Оруэлла есть статья Prevention of literature – «Предотвращение литературы». Там он правильно отметил, что труднее всего предотвратить лирику. Ахматова давала на прочтение, на одну ночь, свой «Реквием». И как за ним гонялись, но никак не могли поймать, ни одного предателя не нашлось. А с музыкой еще труднее – музыка открыта, поди докажи, что она говорит!..
Важно то, чего не видит большинство
– У Мартина Бубера, в книге «Два образа веры», к которой вы написали предисловие, есть фраза: «Интересное – не важно». Замечательное определение, которое современному сознанию недоступно: как это может интересное быть не важным?! Так что же тогда важно?
– Важно то, чего не видит большинство. Мы с моей женой Зиной были как-то на Кавказе и оказались возле Ботанического сада. Так вот, мы норовили туда приходить, когда публику еще не успевали завести, и спешили уйти, едва публика приходила... Во многих случаях я думал: если бы люди прониклись бы нашим с Зиной отношением к вещам, к иконам Рублева в Третьяковке так же нельзя было бы подойти, как к Джоконде в Лувре.
У Зины есть сказка о стране Небывалии. Особенность страны в том, что каждый человек приносит с собой простор. И чем больше людей – тем больше простора. Я потом подумал, что этот поэтический парадокс можно объяснить: если у каждого человека, с которым мы сближаемся, есть внутреннее окошко в бесконечность, то, чем больше людей, тем больше контакта с бесконечностью. И тут не обязательно, чтобы на каждом шагу висели иконы Рублева и на каждом шагу звучала музыка Баха. У нас есть несколько знакомых, которых я называю «небывальцами». Есть, например, одна женщина, русская, которая замужем за норвежцем. И когда мы были в Осло и ходили с ней на берег моря, Зина при ней могла не только читать – могла писать стихи. Ничем другим эта женщина не замечательна, кроме того, что она глубоководная рыба, так сказать, и на поверхности начинает изнывать. Я могу достаточно долго держаться на поверхности, у меня есть способность болтать с людьми о том о сем, хотя я от этого устаю, а она, эта женщина, вообще не может – просто начинает задыхаться...
«Небывальцы» – полная противоположность среднего человека. Вообще люди очень разные. Мы стоим только на пороге поисков взаимного понимания, являя мир, в сущности, разной породы. И это не этнические различия. Урожденная Коноплева, вот эта норвежка, – весьма простого происхождения. Но как-то надо нам научиться понимать в этом отношении: что есть рыбы глубинные, а есть чувствующие себя хорошо на поверхности. Их ни в коем случае нельзя презирать, но они живут на поверхности. И тащить их в глубину не имеет смысла. И у нас могут быть с ними общие темы для разговоров...
Немного о запретных зонах
– Вы в своих книгах очень часто и много пишете о своей жене Зинаиде Александровне Миркиной. С очень большой нежностью и глубочайшим трепетом. И возникает подозрение, что вам известны какие-то секреты счастливого супружества.
– Видите, отношения, которые завязываются на внешних аффектах, легко рушатся. Я недавно посмотрел на кассете очень хороший фильм «Время танцора». Там главный герой – такой простодушный, милый парень, который два раза влюблялся. Один раз подсмотрел девушку голую, а другой раз – ее облили водой, и она сама разделась и села к нему на коня, чтоб он ее отвез домой. Вот такие увлечения держатся до следующего аналогичного впечатления. То, что Митя Карамазов называл «изгибчиком». Кстати, Достоевский показал, что и это при каком-то повороте, при страстной натуре, вдруг обретает глубину, и каменной стены здесь нет... Но, с моей точки зрения, многие ранние браки рушатся потому, что, первая причина, самый аффект слишком связан с наружностью, а не с чувством души... Я не люблю толстых, но для Зины, которая из-за своей болезни располнела, я делаю исключение... Тут ничего не поделаешь. Люди вспыхивают очень рано и вынуждены ошибаться. Поэтому я не считаю грехом, если они поняли, что это была случайная вспышка, и расходятся...
Я о чувственной любви много писал и не стеснялся касаться некоторых запретных зон, в частности, в книге о Достоевском, там, где говорил об исповеди Ставрогина. Все сложно... и все очень просто. Тут есть какие-то элементарные вещи, которые, как правило, остаются за семью печатями, потому что в старой литературе их не принято было описывать: вроде как неприлично. В быту делятся охотно своим опытом пошляки. И не делятся те, кто мог бы здесь что-то подсказать. Есть какая-то обязанность чуткости с обеих сторон, есть вещи, которые нужно знать, чтобы избежать потери глубины чувства в поверхностных несовпадениях. Изначально глубина была, но она теряется из-за того, что люди, которые изо дня в день живут вместе, начинают совместную жизнь воспринимать как совместный обед. Ну это зависит, по-моему, от недостатков у мужчин. В этой области женщины чаще расположены к глубокому. Среди них гораздо больше глубоководных (смеется).
– Григорий Соломонович, коснемся еще одной запретной зоны. Создается впечатление, что запретной, поскольку об этом не говорят. Означает ли ваше замечание о глубоководных рыбах, что именно по причине их малочисленности в России не произошел духовный переворот, то самое покаяние, о котором так долго говорили диссиденты, снял свой фильм Абуладзе, писали все кому не лень в конце 80-х – и все закончилось полным обломом?
– Видите, глубоководных рыб всегда было не очень много. Кроме того, при очень простой жизни, близкой к природе, вероятность глубинной натуры больше, чем в техногенном мире. Техногенный мир, в котором мы оказались, вынуждает нас знакомиться с большим количеством инструкций и строго их соблюдать. К чернобыльской катастрофе привело несоблюдение инструкций. Аккуратные немцы этого бы не допустили. Из-за этого, правда, среди них много скучных людей... Но все-таки Чернобыль слишком дорогая цена за широту русской натуры. Один из моих знакомых выражается так: «Есть проблемы, требующие быстрого решения, и есть проблемы, требующие медленного решения». Чем больше у нас проблем, требующих быстрого решения, а их, вы согласитесь, у нас все больше и больше, тем меньше времени у нас остается на медленные ответы. Хочется тут вспомнить Галича:
Мне не надо скорой помощи,
Дайте медленную помощь...
Это не специфически русское явление – это движение всей цивилизации. Мы втягиваемся в техногенный мир, и надо думать, как уравновесить, употреблю ученое слово, дисфункциональные черты техногенного мира. Попросту говоря – дурные черты.
В принципе это возможно. То, что, может быть, само по себе получалось в более примитивном обществе, сейчас об этом думать надо начиная с детского сада.
У меня в связи с этим был разговор с одним скандинавом, норвежцем, живущим в Швеции, который занялся проблемой нестыковки между тем, чему детей учат в школе, и теми ценностями, которые им внушают в семье, с тех пор, как религия стала частным делом. Человек на уроке биологии рассматривает себя как биологическую машину, а затем на уроке филологии ему говорят о достоинстве и прочем. Этот скандинав, ища ответ, беседовал с католическим архиепископом, который ему говорил, что они сохраняют веру в души предков, посредников между ними и Богом, беседовал с переводчиком далай-ламы, который ему говорил, что в буддизме есть элементы научности, поэтому буддизм легче примирить с современным миром, чем ортодоксальное христианство, требующее все время верить в такие вещи, которые разум уже принять не может. И, прочитав мою книжку – ее издали по-норвежски, – он решил со мною тоже посоветоваться. Я ему в ответ рассказал, как я лично выпутывался из этого положения. Но меня не биология мучила – астрономия. Бесконечное пространство и время. Потом я узнал, что до меня это мучило Паскаля. И, так как поэтом, который больше всего на меня повлиял, был Тютчев, а Тютчев читал Паскаля и в одном месте его цитирует («А человек сей мыслящий тростник»), то, я думаю, до меня допер паскалевский вопрос. Решая его самостоятельно, я фактически открыл для себя медитацию. Жестокий способ – созерцать бездну в 20 лет. Я три месяца ее созерцал... и в какой-то момент почувствовал блеск света внутри, и в этом блеске – тут меня и сбило с толку – появились две мысли, которые я счел разрешением вопроса.
Я вовсе не рекомендую всем идти этим путем – это действительно рискованный путь... Но... знаете, надо учить с детства людей созерцанию.
– То есть, простите, не вводить в школьные программы Закон Божий, о чем сейчас дискуссии идут...
– Нет! Нет!.. Это вздор! С Законом Божиим в школе будет то же, что было с Леной Видаль. Это профессор-славист, испанский ребенок, до одиннадцати лет жившая в России, по-русски говорит, как мы с вами, и, вернувшись в Испанию, она попала прямо в лапы монахинь. А теперь я задам вам вопрос: какое произведение Пушкина она первым перевела на свой язык?
– Неужели «Гавриилиаду»?!
– Точно (смеется). Нужно, начиная с малолетства, с детского сада, развивать в людях способность к созерцанию. Ввести их во вкус, допустим, утренних часов, когда роса всходит, или вечерних, когда закат солнца. В общем, научить их не фотографировать природу на экскурсиях – фотографии мало что дают по сравнению с привычкой созерцать. И привлекать к этому все больше и больше культуру, искусство. Даже кино, которое толкает к загадке и заставляет эту загадку перед разрешением помногу рассмотреть. Вот, например, «Зеленая миля» – замечательный фильм, который я бы советовал прогнать повсюду, как в свое время «Покаяние», хотя он вроде к нам не относится, но заставляет задуматься над той глубиной, которая не связана с интеллектуальной культурой, которая может быть и у лорда, и у малограмотного негра... Кстати, я вспомнил фразу одного из индейцев, живущих в резервации в Америке: «Белые американцы – сумасшедшие». – «Почему?» – «Потому что они думают умом, а думать надо сердцем»... Так что это не безнадежно. Если осознать проблему – она будет решена...
Власть лишена умения созерцать
– В чем была ошибка Государства, которое в конце 80-х вмиг потеплело к Церкви, и Церкви, которая почувствовала вседозволенность?
– Если говорить о нашей Церкви, то нельзя обойти тот неприятный момент, что кадры этой организации тщательно подбирались Комитетом государственной безопасности СССР. Антоний Сурожский – исключение из общего правила, потому что эмигрант и сын эмигрантов и даже зарплаты не брал с Патриархии, подчеркивая свою независимость. А вообще они скорее способны к тому, чтоб «князь Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам...», и прочая. Поэтому они сразу ухватились за политическую роль, за власть... В придачу наша политическая жизнь исковеркана двумя обстоятельствами. Тем, что левая ниша прочно была занята КПРФ и негде было развернуться социал-демократии, а христианской демократии у нас не сложилось, потому что Церковь была готова к черносотенству, но не к консервативно-демократическому пути. Был способен к христианской демократии о. Александр Мень – так его убили... Я считаю, что из ныне здравствующих сознательно стремятся к христианской демократии игумен Вениамин (Новик), которого выгнали из Санкт-Петербургской Академии, и, может быть, отец Георгий Чистяков... Но это, вообще говоря, белые вороны. И из-за этого у нас нет истинного парламента. Из-за этого мы не прошли через покаяние, потому что покаяние требовало...
– Духовного наставления, лидерства, окормления...
– ...окормления, да. Все-таки есть традиция, и западная церковь с этим справилась на выходе из тоталитаризма. Хотя и они обычные люди, ничего чудесного в них нет, а просто наша Церковь совершенно не выполняла своей роли. Отвлекаясь от этого, вообще не случайно Европа стала постхристианской, и, на мой взгляд, выход от постхристианства к неохристианству может быть только через очень глубокое обновление. Через нечто подобное тому, что делал Энтони де Мелло своими притчами, которые откровенно брал откуда попало, вплоть до еврейских анекдотов (я некоторые узнал), то есть дзен, суфизм, хасидизм, и он все это покрывал христианской шапкой.
– То есть это в фарватере сказок Клайва С. Льюиса?
– Несколько иначе... Льюис все-таки держится католичества до Второго Ватиканского собора. А Энтони де Мелло – человек с пониманием того, что надо искать каких-то новых путей, как, например, далай-лама, комментирующий Евангелие. Мне кажется, это путь подвести среднего человека к тому, что есть нечто непознаваемое, не постижимое умом, но что можно и нужно почувствовать глубиной своего сердца. Де Мелло разрушает представление о религии как о чем-то скучном. А если она кому-то кажется скучной – виноваты те, кто с ним говорит о непостижимом. Вот, если угодно, одна из его притч. Ветер сдул парашютиста в сторону, и он повис на дереве. Начал кричать, звать на помощь, какой-то человек подошел. «Где я?» – закричал парашютист. – «На дереве». Парашютист подумал и спросил: «Вы священник?» – «Да, а откуда вы знаете?» – «Потому что вы говорите очевидное, но совершенно бесполезное».
Или еще: «Атеист отрицает на каждом шагу то, что не может быть выражено словом. А что делает верующий? Утверждает то, что не может быть выражено словом».
Вот видите, как он на каждом шагу подводит вплотную к тайне... Вы хотите сорвать цветок? Но для этого надо сойти с дороги.
Положение не безнадежно... Если вся эта путаница проблем не будет развиваться слишком быстро, если хватит у нас времени, у человечества, вдуматься в свои проблемы, и клубок этот не докатится по нашей небрежности и недостаточному вниманию до катастрофы (что возможно), то в принципе и эта проблема может быть решена. Но проблема начинается с созерцания. А не с того, что строится новая церковь. Я знаю нескольких людей, которые в церковь пришли и ушли, потому что наталкивались на грубых, невнимательных пастырей...
– В связи с последними вашими словами – как вы считаете, может, было недостаточно именно созерцательности в действиях нашей власти, приводивших нас к новым проблемам?
– Если говорить о действиях власти, то эти люди вообще созерцать не умеют. За редким исключением, вроде генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда, политики без созерцательности как-то обходятся. Думаю, что Черчилль тоже не был созерцателем – он был неплохим государственным деятелем...
Что нас на нашем пути в последние десятилетия погубило? Непонимание того, что любая идея, так сказать, выпущенная на волю, становится разрушительной. Невозможно строить без чувства равновесия. Каждая идея должна быть уравновешена противоположной идеей. Этого наши деятели не понимают – ну и откуда чему было взяться? Тут нужна была совершенно иная культура, а она была выбита, вытоптана, уничтожена... и остались только советские интеллигенты, которые не обладали подлинной широтой. Как Гайдар, который, в общем, не из худших, но который сказал в начале своего короткого правления, когда его спросили, а как же культура: «Ну разве великая культура пропадет от этого? Как-нибудь сумеет продержаться...».
Надо учиться жить среди противоречий, уравновешивая противоречия, и если этот опыт нам пойдет впрок, он того стоит, хотя власть его, по-моему, не понимает... В этом смысле духовные проблемы необходимы для того, чтобы не было господства воров. Чтобы жизнь духовная была привлекательнее для достаточно широкого круга людей, чем жизнь бандитов. Но отсюда мы кружным путем приходим к созерцанию. А чтобы развивать духовную жизнь, нужна культура созерцания. Меня не интересует жизнь нового русского, окружающего свое поместье забором с колючей проволокой, – я эту проволоку имел в лагере (смеется)...
Так что прямо созерцание втягивать в политику невозможно. Но политика должна учитывать развитие духовной культуры. А духовная культура должна иметь свободу, осознавать свои задачи и провозглашать готовность думать не только умом, но и сердцем...
