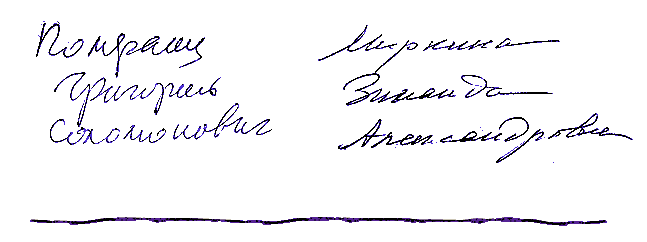
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРНОГО КРУГА
Если человеку суждено заболеть паскалевским страхом бесконечности, то ужас бездны
у него может вызвать тангенсоида. Так именно случилось и со мной. Я сидел над учебником
тригонометрии и смотрел, как тангенсоида ныряет в бесконечность и выныривает с каким-то
числом в зубах. И вдруг почувствовал всей своей шкурой, как лечу и пропадаю в физической
бесконечности космоса. Сумею ли вынырнуть из нее, как тангенсоида? Все во мне зашаталось,
вплоть до внутреннего пространства, которое я только начал выстраивать, чтобы не поддаваться
уверенному голосу первого встречного, и уже положил в основу реплику, до сих пор любимую:
вы можете меня расстроить, но не играть на мне. Чем больше я входил в ощущение песчинки,
летящей в бесконечность, тем безвозвратнее все теряло смысл. Можно было сойти с ума. Мне
было шестнадцать лет, и я понял, что эта проблема мне не по зубам. Разберусь потом. И я
отложил вопрос о месте человека в бесконечности, пока не поумнею.
Между тем, я продолжал строить свой внутренний мир, учился различать уровень, где
оставалось что-то навсегда, от поверхностных впечатлений. В сочинение «Кем быть» закончил
словами, очень огорчившими учителя: «Я хочу быть самим собой». Недовольство Ивана
Николаевича было первой угрозой на пути, который я выбрал. Потом пришлось держать удары
посильнее.
Шли годы террора. Я нашел способ уходить от воя газет и ходил раз в неделю на
Пречистенку, в музей новой западной живописи. Это был мой храм. Про Бога я знал, что его
нет, но Туман над Темзой нельзя было отрицать, и я погружался в него, или стихи Тютчева:
тени сизые смесились, звук умолкнул, цвет уснул...
Но Тютчев оказался расколотым надвое. Он то чувствовал природу как великую любовь, в
которой тонули все страхи, то заражал окружающих страхом «мыслящего тростника»: «природа
знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя
самих лишь грезою природы...» Тютчев ввел паскалевский страх в русскую классику, захватил им
Толстого, и Толстой, начитавшись материалистических брошюр, в которых человек конечен, как
камень прятал от себя веревку, чтобы не повеситься, и ружье, чтобы не застрелиться. В
двадцать лет эти сцены захватили меня больше, чем смерть Анны Карениной. Я испытывал тогда
первый взлет творческих сил, который долго не повторялся, и принял вызов метафизического
страха.
Логически человека в бесконечности решалась не в мою пользу. Любое конечное число,
деленное на бесконечность, равно нулю. Следовательно, я нуль, и вся история человечества –
горсточка нулей. Это просто, как дважды два четыре. А мне нужно было дважды два пять (так я
впоследствии прочел в «Записках из подполья»). Я и решил не обращаться к логике, а просто
перекрывать в уме абсурдную проблему: «если бесконечность есть, то меня нет; а, если я есмь,
то бесконечности нет». Через двадцать лет я узнал, что это напоминает метол перехода от
помраченного сознания к просветленному в буддизме дзэн. Оторванный и о образа Бога, и от
внеобразной мистики, я изобретал деревянный велосипед и изобрел что-то достаточно неуклюжее,
отдаленно напоминавшее решения, предлагавшиеся, начиная с VIII в. До P.X. После трех
месяцев перекатывания проблемы в уме, она раскололась, и в мелькнувшем свете вдохновения
сложились две мысли: 1) мое сознание не ограничено моим телом. Каждое сознание – точка ,в
которой вселенная вся себя сознает. Мое тело – весь бесконечный космос и 2) мои жизненные
цели человечества как-то вплетаются в круговорот космоса и необходимы в его структуре.
Вторую идею впервые я выразил очень неуклюже. Из уважения к прошлому я сохранил это уродство
в книге «Выход из транса». Интересно, однако, другое: озарение не создает словесных
структур. Оно озаряет то, что складывается в уме. Как ни озаряй ум неандертальца, он не
родит ничего больше примитивного мифа. Сейчас, познакомившись с несколькими великими
культурами, я повторил бы слова Кришны Арджуне: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы
все миры. И поэтому – сражайся, Бхарата!» Это имеет смысл и вне спора с ранним буддизмом.
Как ни был мой деревянный велосипед, он пригодился мне в 42-м к северо-западу от Сталинграда. Во мне всплыла психическая травма ранения и контузии, испытанных несколько раньше, и полчаса я никакими доводами не мог победить страх. Наконец, пришла в голову простая мысль: я не испугался бездны пространства, времени и материи, стоит ли бояться нескольких Хейнкелей? И сразу всплыла память полета над метафизическим страхом: глыба фронтового страха , придавившая меня к земле, стала таять, как сахар в чае. Через две минуты, все еще дрожа от пережитого, я встал и пошел, куда мне было назначено.
С чувством полета над страхом я прошел всю войну. Но, к сожалению, после войны оно
перестало выручать. Фронтовиков очень успешно отучали от фронтового мужества. Три года я не
находил выходаиз клетки советской системы. Наконец нашелся выход: вниз. На Лубянке, и в
Бутырках, и в лагере мне дышалось свободнее, чем в сталинском большом оцеплении, - как мы,
шутя называли мнимую свободу. На пргулках между вахтой и столовой я учился этике диалога и
раз навсегдавзял себе второе место, уступив первое тем, кто рвались на него. Это сказалось
и после лагеря, в поздно пришедшей любви. Мне нужна была королева, которой хочется служить.
Я нашел ее, завоевал ее любовь и был бесконечно счастлив. Но на самой вершине счастья
королева умерла на операционном столе. Я пережил малое светопредставление: несколько секунд
синее небо, расколовшееся на куски, падало на зелю. Потом падение небесного свода
остановила надежда: еще шла борьба за жизнь. Смерть наступила через сутки.
После похорон, закрыв глаза, я увидел Иру, что-то мне говорившую. Слов не было слышно,
но я понял их как заботу о пасынках. Надо было вывести их из отчаянья. Сперва мы просто
жили и забывались вместе. Потом накануне первого января, я воспользовался опытом медитации
и две недели упражнялся – сказать про себя «с новым годом, с новым счастье», - и не
заплакать. В канун Нового года мне это удалось. Я повторил тост надежды со всей полнотой
чувства за столом. Обряд помог. Вместе с пасынками я вытащил из отчаянья самого себя.
Галлюцинации, преследовавшие меня два месяца, сразу кончились. Я был здоров. Нов сознании
наплывали, чередуясь, - то карамазовский бунт, то поиски другого образа Бога, чем тот,
против которого Иван бунтовал.
Так прошло полгода. Потом мой младший пасынок затащил меня к Александру Гинзбургу,
будущему правозащитнику, а тогда печатавшему в тридцати самиздатных экземплярах стихи, не
попавшие в журналы. Я услышал о больной поэтессе, жившей на станции Отдых. В воскресенье я
туда поехал. Одним из первых было прочитано стихотворение «Бог кричал»:
Бог кричал. В воздухе плыли
Звуки страшней, чем в кошмарном сне.
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу. По мне.
..................................
Бог выл с искаженным от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам услышать за нашим криком
Бога живого крик?
Он всемогущ. Он болезнь оборет,
Вызволит из огня
Душу мою. Или взвыв от боли,
Он отсечет меня.
Пусть. Лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной,
Бредя, не сник в жару.
Нет, никогда не умрет нетленный.
Я за него умру.
Недавно я услышал, что мысль о бесконечном сострадании к страдающей твари можно найти
у Исаака Сирина. Но дело не в авторитете. С Сирином или без него, это стало моим credo.
Я дополнил его только еще одной деталью: Бог топит наше общее страдание в творчестве и дает
Иову приобщиться к своей творческой радости. Мне кажется, через кризис и отчаянье родились
и святыни субглобальных цивилизаций, положивших основу современному миру. Почему-то всем им
предшествовала свободная мысль, отбросившая традицию или на свой лад ее толковавшая. Потом
философия, не сумев создать нового нравственного порядка, запуталась в сомнениях. Начался
общий духовный кризис, и уши нехотя открылись откровению (в Индии – местному населению, в
других краях – пришедшему со стороны, ломая племенные границы). В глубоком отчаянии от
неустройства общества умирал Конфуций: люди не слушали его добрых советов. Учение его
утвердилось через пятьсот лет, после кошмара циньского террора. Гаутама был потрясен
зрелищем старости, болезни и смерти. И буддизм передал это чувство кризиса десяткам и
сотням тысяч. Ученики Христа разбежались с Голгофы.
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.
Пастернак, вжившись в образ Магдалины, безошибочно выбрал слова. Только через пустоту,
через бездну приходит воскресение святынь, обновленных отчаяньем. Это пережило меньшинство,
но оно повлекло за собою народы. Сходство пути цивилизации с путем личности мне просто
увиделось, но потом я вспомнил идеальные типы Вебера. Его характеристики цивилизаций очень
напоминают характеристики литературных героев. Субглобальные цивилизации – это своего рода
новые соборные личности, сменившие племенные соборы. А личность – тоже своего рода соборное
единство, раскрывающееся по0разному в откликах на вызовы судьбы. Если бы Иван Карамазов
сказал только «все позволено» - это был бы не Иван, а его черт.
